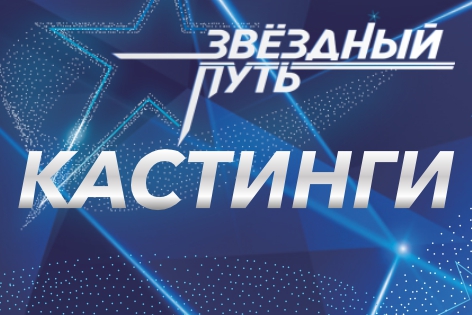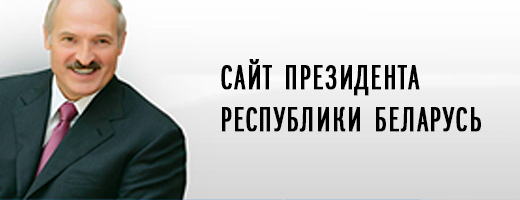Мюндер Феликс Петрович
Несовершеннолетний узник войны
В последнюю неделю перед приходом американцев, весной 45-го, отступавшие немцы пригнали в Хойтен наших военнопленных. Их поместили в большой трехуровневый сарай, какие стояли в каждом дворе. В деревне всегда можно что-то найти, и юноши-остарбайтеры (на майском снимке 1944 года Феликс запечатлен перед самым вывозом в Германию) носили несчастным продукты, немцы не препятствовали. Пленные имели жалкий вид: оборванные, изможденные, шинели без хлястиков. Был один, выделявшийся аккуратным кителем, вызывал уважение тем, что в ужасных условиях не сдался, продолжал блюсти себя.
После прихода американцев пленные куда-то исчезли. А через несколько дней отправили посыльного к своим юным кормильцам: айда, ребята, к нам. Оказалось, американцы определили для проживания пленных и перемещенных лиц бывший лагерь гитлерюгенда, детской нацистской организации.
Феликс с приятелями пошли на разведку. Увиденное впечатлило. Красивое, окруженное невысокими горами место, аккуратные домики барачного типа, спортивные площадки, душ. Из дома побольше, служившего клубом, доносилась музыка. Заглянули: мужчина играл на фоно, а пары кружили в вальсе. Потом из соседнего барака пришли французы, один сел за клавиши и заиграл «Интернационал», а остальные выстроились, подобно команде Швондера, и дружно запели.
Кроме русских здесь были итальянцы, французы, поляки – да много кто, каждая национальность в отдельном бараке. Американцы привезли обед, без деликатесов, но от пуза. Поев супа с мясом, остарбайтеры отправились за вещами.
Феликс прожил в лагере до середины июня. Здесь кормили и практически не контролировали: никакого распорядка, делай что хочешь. Необычное состояние для человека, жившего в условиях СССР или Германии: за все время ни одного приказа. Вернуться в Союз или остаться? Агитации не велось – как сочтешь нужным.
В начале лета прибыл советский офицер в сопровождении американцев, выступил перед русским бараком с посылом «Родина вас ждет!»
Через неделю прибыла колонна наших студебеккеров с натянутым тентом, и желающим вернуться предложили занять места. Феликс с несколькими приятелями пошли первыми. Весь немецкий год была страшная ностальгия – хотелось увидеть нашу шапку, дугу на упряжи, родную разболтанность на фоне немецкого «орднунга». Потом кто-то корил себя за прыткость – когда измученные, полуголодные два месяца шли пешим маршем через всю Германию и Польшу на место дислокации в слуцкие края. Махали по десять, четырнадцать часов в сутки, спали на ходу.
Называлось это «призвали на срочную»: в советской зоне Мюндера и других узников и пленных, кто выдержал фильтрацию, прямо из лагеря забрали в армию. Формы не выдали, назвали номер полевой почты и сказали, что путь лежит на Киев.
Шли ночью, когда не так жарко, засыпали на ходу. На немецких землях, что отошли Польше, в иных деревнях не встретили ни души. Жителей не то выгнали, не то они ушли сами перед советским наступлением. По всему, в страшной спешке: на столах иной раз были тарелки с недоеденным супом.
В дороге новопризванные меняли одежду и остатки амуниции на еду: не обмундировали их все же предусмотрительно. Спускались в подвалы, где стояли осенние заготовки. В наших восточных районах домашним консервированием не занимались, все больше солили – капусту, огурцы в бочках… А здесь – закрывали на зиму в банки.
Феликс берег наручные часы, что подарил американский солдат, но все же срезали со спящего на привале.
В армии Мюндера продержали шесть лет. Послевоенные срочники понятия не имели, когда отпустят, встречались такие, кто не снимал сапоги и дольше. Были сержанты, которых призвали еще весной 42-го, а отпустили осенью пятидесятого.
Слобудка, Гродно, Пинск, Лунинец, наконец, Вильнюс с его зелеными братьями – такова география срочной службы Феликса Петровича.
Наконец демобилизовали, и он смог реализовать главную свою мечту. Когда в Гродно сослуживцы спрашивали, что ж, дурак, у американцев не остался, искренне отвечал: знал, что в СССР я смогу учиться.
Окончил Могилевский пединститут и учил детей в районе, в начале шестидесятых переехал в Брест. Работал в институте усовершенствования учителей, с сентября 1966 года перешел в строительный техникум, преподавал физику и высшую математику.
В 69-м по турпутевке посетил ГДР. В свободный день предупредил старшего, взял такси и отправился в Хойтен. Мюндеру хотелось не только вспомнить пережитое, но разыскать старых знакомцев, предстать перед ними человеком – в хорошем костюме, с положением в обществе. Узнал во дворе хозяйкиного сына Вернера – того, что видел отпускником с фронта, теперь погрузневшего, полысевшего, и старую хозяйку. Хорошо встретились, посидели – люди с общим прошлым, делить которым было нечего.
Феликса Петровича в Бресте знает всякий. Не лично, так в лицо. Не в лицо, так понаслышке. Он – новая версия Михаила Сарвера, с которым встречался в начале семидесятых после его поездки в Париж.
Но это уже в другой жизни. В контексте нашего повествования – страничка из юности Феликса Петровича. Остарбайтерская.
Войну тринадцатилетний Феликс встретил в своих Горках Могилевской области. Немцы сюда пришли 12 июля, когда в городе считали, что бои еще идут в Западной Белоруссии. Мать Феликса с утра пошла рыть противотанковые траншеи, а сам он, надев пионерский галстук, провожал старших ребят, которых в тот день призвали в армию.
Вернувшаяся с траншей мать сказала: что-то неладно. Их дом стоял на последней улице, и в сторону леса побежали председатель райисполкома и несколько красноармейцев. А потом появились немцы.
На другой день соседский парень притащил из города какой-то приемник и сказал, что магазины открыты, бери что захочешь. Феликс застал на улице впечатляющую картину: мужчина нес взятый в хозяйственном магазине ночной горшок, наполненный джемом, который зачерпнул в продовольственном. При любой смене власти народ запасался – все активно растаскивал.
Надолго запаса не хватило, но как-то жили, а за год до освобождения, в июне 1944-го, шестнадцатилетнего Феликса вывезли на работы в Германию. Оказался в Тюрингии в районе города Веймар на хозяйстве у бауэра. От увиденного ошалел: в сельской местности каменные дома, асфальтовые дороги, все сады и поля – за чертой поселка. Так по всей Германии; наши, попав туда, поражались ухоженности, и главным вопросом было: где у них деревни?!
В местечке Хойтен не было крупных помещиков, каждая семья получила в помощь одного-двух восточных рабочих. Жилось вольготнее, чем где хозяйство было крупным и рабочих было 30-40.
В Германии в это время было нечто напоминающее военный коммунизм. В конце трудового дня к бауэру приходил учетчик и фиксировал, сколько тот намолотил пшеницы или ржи, произвел продукта. Дальше по нормам: хозяин оставлял себе положенное с учетом размера семьи, а остальное уходило государству. Сдавали дисциплинированно – молоко, зерно, свинину… Посреди деревни стоял высокий стол, каждый оставлял там свою емкость с молоком. А утром приезжал транспорт с молокозавода, забирал и фиксировал, кто сколько сдал. То же с мясом: забил кто-то кабана – тут же обвес и по норме, сколько себе и сколько государству.
В Хойтене Мюндер пробыл больше года. Жил у хозяйки, имевшей дочь и трех сыновей. Двое пошли на фронт, а третий похрамывал, не взяли. Все работали на равных.
Ели с хозяевами за одним столом, но страшным грехом считалась интимная связь немки с неарийцем. Остарбайтеров, пойманных на связи с бауэршей, вешали или отправляли в тяжелый лагерь, а немку брили наголо и водили напоказ по деревням.
С приближением фронта обстановка становилась все более нервной. Пожилых мужчин и подростков забирали в фольксштурм, шли колонны грузовиков. Население смирилось с тем, что скоро придут американцы.
Но жизнь продолжалась по заведенному кругу. Печей, как у нас, в немецких деревнях не было, каждый заготавливал тесто, формовал себе длинные буханки и нес в пекарню. Раз пришли люди за готовым хлебом – пекаря черт и дернул: подождите, придут американцы, тогда… Тут как из-под земли выросли два активиста нацистской партии, но деревня пекаря как-то отстояла.
Раз, перед самой сменой власти, появилось подразделение с фауст-патронами. Все были в ужасе: стоило выстрелить или занять оборону, американцы сровняли бы деревню с землей. На счастье, фаустники вскоре куда-то ретировались.
С местным «фольксштурмом» было проще. Эти пенсионеры в последний день взяли метлы и принялись мести дорогу, по которой должны были появиться американцы.
Те пришли в деревню в апреле 45-го. Феликс был на огороде. Американец спросил его: рашн? Юноша не понял, но на всякий случай кивнул. Солдат снял с руки часы и отдал ему. Мюндер эти часы берег, не менял на провизию, но в конце концов их украли.
Феликс с интересом наблюдал заокеанских освободителей. На привалах при всей их демократии белые держались своей компанией, черные – своей. Юноша был полон к ним симпатии и даже разжился американской формой.
В деревне до последнего дня работали табачная, чулочно-носочная и галантерейная фабрики. Сигареты были большим дефицитом, но при немцах не было случая, чтобы кто-то подворовывал и продавал из-под полы. Но стоило прийти американцам, появились дельцы: один немец подсуетился и вывез с фабрики целый воз табачного листа.
А американский солдат сел на асфальт посреди дороги, положил по одну руку кучу перчаток, по другую – носков, подзывал жителей деревни и с царственным видом выдавал каждому по паре того и другого.